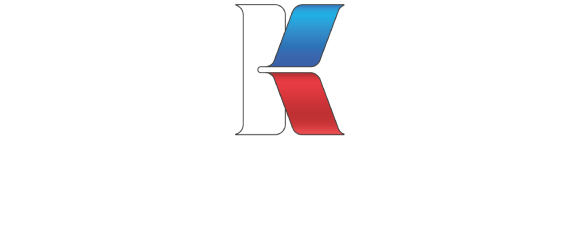



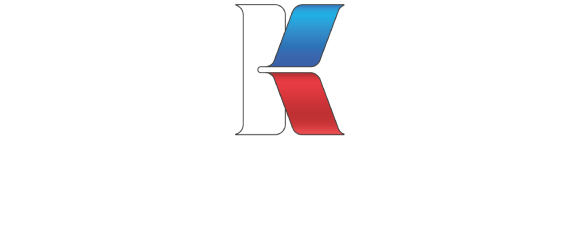









Сегодня, наверное, как никогда раньше – ну, разве что в период гражданской войны в России – ослаблены связи между поколениями русских «отцов» и «детей». В социуме это проблема многофигурная, в литературе её очертания более отчетливы и понятны. В некотором смысле, перед нами повторение ситуации, в которой оказалась русская эмиграция первой волны. Уезжая из большевистской России, старшее поколение беженцев сохраняло в своей памяти всё самое лучшее, что было связано с прежними годами. В их душе почти осязательно жили картины вчерашнего дня, и не существовало силы, которая могла бы погасить драгоценное пламя этих воспоминаний. А вот их дети, не имея такого прочного якоря, хранившего связь с почвой, лишённые сердечной памяти о родине, с младых ногтей оказались в иной жизни, которая не принимала старые русские психологические лекала. И были вынуждены к ней приспосабливаться, не обладая некими внутренними устоями, которые поддерживали бы их русскую самоидентификацию. В итоге молодое поколение первой волны русских эмигрантов западная жизнь нравственно перемолола, породив в нём чувство опустошения и понимание собственной ненужности.
В настоящее время мы видим пугающее подобие этого явления уже на российской земле. Запад вторгся в нашу информационную среду на самых разных направлениях.Традиционная и классическая культура подменяются пошлыми ужимками и неостановимым словоблудием новоявленных хлестаковых; скроенная по новому образцу система образования, похоже, считает излишним нравственное и интеллектуальное воспитание подростков. По существу, наши дети живут в фальшивом, подменённом мире. Словно юные эмигранты в новой стране, младшие вынуждены мучительно или равнодушно соединять в своем сознании истории старших о царской и советской России.
Главная трудность нынешнего момента нашей драматической истории – обретение преемственности двух поколений, совместная их готовность построить справедливое и высокое русское мироустройство.
Обращаясь к литературным произведениям «отцов», видишь зачастую, что единственной реальностью для автора является доминирующее воспоминание о прошлом. «Дети» из года в год видят страну, непохожую на давние фотоснимки, кинохронику и рассказы старших, а единственной плотной реальностью для них можно считать текущий день – плохой, вероломный, построенный в координатах кумовства, взяточничества и несправедливости. Для них это данность, а все былое, озвученное родителями и дедами, похоже на легенду. И становится проблематичной мотивация «детей», которые встали бы плечом к плечу с «отцами» на защиту прошлой идеи, словно бы простив вопиющее несовершенство настоящего дня.
В литературе молодые писатели фиксируют картины действительности и составляют своего рода мозаику из художественных фрагментов; новое поколение пишет, не посягая на большое слово о мире, в котором живёт, не открывая в себе глубокого дыхания, позволяющего в сквозном сюжете дать образ страны и одновременно – очерк судьбы своего современника. Собственно, это наполняет уже рассказы молодого Шолохова.
И выходит, что старшие и младшие говорят и пишут, кажется, совсем о разных вещах. Эта творческая и мировоззренческая полярность проявляется и в окололитературных дискуссиях, и в самих произведениях. Ожесточение и отчуждение иной раз пронизывают публичные встречи и дискуссии представителей двух поколений. Но все-таки некое, почти погашенное течением дней, чувство принадлежности к одному кругу писателей, которые ценят идеальную составляющую русской литературы, спасает эти беседы и семинары.
Исключительно важным становится наличие общего для «отцов» и «детей» тематического и содержательного поля, которое, при всех иных разнообразных и непохожих друг на друга приметах (стилевых и языковых), является тем звеном, что сцепляет русское прошлое с русским настоящим и позволяет творчески размышлять над русским будущим.
«Отцам» и «детям» в литературе и жизни необходимо уяснить более чем простую мысль: то, что они есть друг у друга – совсем не случайно. Их взаимная непохожесть носит не только драматический характер – она созидательна и в конечном счете направлена на обновление всего строя нашего существования.
Между тем, вглядываясь в пространство повествования старших и младших, нельзя не обратить внимания на одну особенность. У «отцов» фон происходящего практически всегда определенен, то есть читатель понимает, что действие разворачивается в постсоветские годы, в эпоху эрозии высоких понятий и слов и пренебрежения самим человеком. И уже на фоне прописанной или только обозначенной социальной среды писатели старшего поколения принимались за воссоздание коллизий и самой идеи своего произведения.
У молодых нет принципиального отчуждения между социумом и героем, нет ощущения того, что единство общества и отдельного человека прежде, вроде, было, а потом исчезло. И если есть схватка в сюжете молодого писателя, то он борется не с самой средой, а с проявлениями этой среды. Эта вторичная адресация внутреннего сопротивления оказывается фактически преодолением следствий, а не причин. Подобное положение вещей напоминает сюжеты буржуазной западной литературы второй половины минувшего века. Социальный абрис настоящего незыблем, и уже внутри него автор и его персонажи ищут правду и справедливость, доброту и высокий порыв. Но, как правило, отыскать их не могут по определению: все вокруг настроено против человека и его нравственных устремлений. Хотя присутствие в одном интеллектуальном и чувственном пространстве прозы «детей» и «отцов» вполне может идентифицировать постсоветскую среду человеческого обитания. Взаимно дополняя друг друга, старшее и младшее поколения современных русских писателей могут уловить как основы, так и атмосферу нашего нынешнего дня.
Сегодня важно не разделять по возрастному принципу коллективные публикации новой русской прозы. Выбирая достойное, необходимо внимательно сочленять произведения разных писательских поколений, дабы общая картина обретала при этом внутреннее единство. Рассказы и повести Юрия Лунина, Елены Тулушевой, Андрея Антипина стоит соединять под одной книжной обложкой с романами и повестями Петра Краснова, Владимира Крупина, Владимира Личутина, стараясь воссоздать совокупный облик времени. Желание «сшить» уходящий день с наступающим без труда можно найти в произведениях молодых и старших, и уже это обстоятельство приводит нас к пониманию, наверное, самого важного: мы друг другу – родные.
Андрей Тимофеев. Отцы и дети в современном литературном процессе Андрей Тимофеев (Москва) – литературный критик, прозаик, председатель Совета молодых литераторов и член Совета по критике Союза писателей России.Непонимание между поколениями «отцов» и «детей» в консервативном поле современной литературы объективно существует. К счастью, оно проявляется не в области собственно художественного творчества, а в принципах организации литературного процесса и в восприятии современной литературы и мира в целом. Как руководитель Совета молодых литераторов СПР, я нахожусь в центре этого противостояния: с одной стороны – прекрасно зная и понимая «детей», с другой – непрерывно контактируя с «отцами». Я всё пытаюсь быть фильтром, пропускающим в обе стороны лишь то, что может быть хоть как-то понято и принято.Но глубина пропасти огромна, и у меня всё меньше надежд на понимание. В этом докладе мне хотелось бы посмотреть на ситуацию глазами «отца нашего Шекспира» и в объёмном виденье примирить оба мировосприятия. Но я не могу этого сделать, потому что при всей моей любви и уважению к «отцам» ясно вижу те изъяны в их позиции, которые губительны для нас всех, и не знаю, как мне об этом молчать.
В докладе Вячеслава Дмитриевича Лютого, – наверное, самого мудрого и уважаемого мною представителя старшего поколения –я слышу ту самую ноту «отцов», очищенную от эмоций и обид, взвешенную и ясно сформулированную, но содержащую в концентрированном виде все предубеждения относительно «детей» и все возможные «скелеты в шкафу». И единственное, что я могу сделать, это попробовать очистить свои дальнейшие слова от лишних эмоций и взять такую же точную и ясную ноту, но со стороны «детей».
Мы могли бы сойтись в точке, которая нас объединяет. Этой точкой является традиция. Наша единственно возможная русская пушкинская традиция (понимаемая в смысле известной статьи Глушковой «Традиция – совесть поэзии» не как следование каноническим формам, а как причастность к единому потоку русской жизни). Обернувшись назад к нашей классике (от Пушкина до поколения «дедов»: деревенской прозы, тихой лирики, русских критиков-неопочвенников), мы увидим, что она одинаково дорога нам, что мы не мыслим себя в отрыве от неё. Но остановиться на этом объединяющем начале и не посмотреть друг на друга – значит проигнорировать существующие и разрушающие наше общение противоречия, пульсирующие здесь и сейчас. Мне кажется, это было бы неправильно.
Поколение «отцов» сформировалось в позднюю советскую эпоху, пережило вместе с ней её относительное бытовое благополучие и бурю общественной борьбы. Развал страны, расстрел парламента в 1993 году стали для него высшей точкой трагедии, а вся дальнейшая жизнь – борьбой за существование и сохранение нравственных ценностей во враждебном мире. В этом смысле очень точно сравнение Вячеслава Лютого с поколением эмиграции после 1917 года, потому что старшее поколение и правда ушло в своеобразную внутреннюю эмиграцию. Мир вокруг воспринимался ими апокалиптически (вообще представление о случившемся апокалипсисе очень характерно для прозы, осмысляющей 90-ые: скажем, в романе Веры Галактионовой «Спящие от печали» – в концентрированном виде, в «Заполье» Петра Краснова или «Запретном художнике» Николая Дорошенко – разлито по тексту). А единственный способ сохраниться в мире, охваченном злом, – христианские катакомбы первых веков, то есть создание небольших замкнутых групп для «своих», где сохраняются общие ценности, утерянные в большом мире. Такой катакомбой является, например, сайт «Российский писатель», такими катакомбами являются некоторые литературные объединения и писательские организации в регионах. Наверно, это было единственным выходом в то время.
Но прошло тридцать лет, и мир вокруг изменился. И оказалось, что он не является воплощением зла и графомании, что литература дышит и здесь, что настоящие писатели существуют и здесь, просто они зачастую не готовы признать незыблемость догматов катакомбы, хотя дух их может быть вполне созвучен традиции. Уйдя во внутреннюю эмиграцию, бо̀льшая часть старшего поколения перестала интересоваться внешним миром, потеряло адекватное представление о нём, об острых проблемах литературного процесса, о вызовах, которые стоят перед всеми нами.
Современное поколение «сынов», чьё взросление и становление проходило уже после развала СССР, остро чувствуют эту проблему. И здесь сравнение Вячеслава Лютого мне кажется не совсем корректным – «сыны» похожи не на детей эмигрантов, скорее, это первое советское поколение, воспринимающее новые условия жизни не как апокалипсис, а как реальность. Мир действительно изменился. Если взять метафору из серьёзного фэнтези (которое в своих лучших образцах является точным индикатором состояния общества), мир из толкиновского превратился в мартиновский. В нём действительно исчезли нравственные координаты, единые для всего общества, и это не вопрос нашей воли и нашей борьбы – это объективность, которую необходимо принять. Но отсутствие единых координат не означает их отсутствия в каждом конкретном человеке и не означает их отсутствия в мире. Просто нравственные координаты теперь стали делом личности, а не общества.
Поколение «отцов», выросшее в советское время, не знает, что делать с этим и как ориентироваться в ситуации, в которой нельзя мыслить категориями общего, – у них нет механизмов познания такого мира, и единственный способ – объявить мир целиком враждебным. Поколение же «сыновей» не чувствует растерянности (та растерянность, о которой говорит Лютый, это лишь проекция восприятия «отца», неудачная попытка объяснить другого изнутри себя). Нельзя отчаянно бояться места, где вырос и к которому привык.
Взамен стройности единой картины мира у «сынов» появились естественные механизмы, позволяющие существовать и спокойно разбираться в «новом» мире (и этого категорически не могут понять «отцы»).
Во-первых, «сыны» имеют прививку от информационного влияния – поколение, знающее интернет, гораздо более защищено от манипуляций и гораздо менее наивно в этом смысле, чем советские люди. «Отцов» в конце 80-х завели в информационный лес, и они там потерялись, а нынешние живут в лесу спокойно и на подкорке знают, как обходить опасность. Примитивными манипуляциями сейчас можно воздействовать только на очень молодых людей, заряженных на протест и самовыражение любыми способами. Даже двадцатилетние уже сомневаются в правдивости любой поступающей к ним информации.
Во-вторых, «сыны» достаточно ясно различают пошлость в мире. Кажется, опять на «Российском писателе» встречал рассуждения о негативном влиянии на современную молодёжь того, что показывают по телевизору (насколько я помню, имелся в виду новогодний «Голубой огонёк»). Автор текста, видимо, не знал, что молодёжь не смотрит и никогда не будет смотреть ни «Голубой огонёк», ни вообще первый канал – именно по причине пошлости и низкого уровня.
В-третьих, степень распущенности поколения «сынов», безусловно, выше, чем у «отцов», но всё-таки отзывчивость их на реальный «грех» сильно преувеличена. Скажем, целующиеся на сцене форума «Таврида» девочки никого из молодых участников смены (от 18 до 35 лет) не совратят, потому что в этом возрасте все прекрасно знают, что гомосексуализм существует и уже давно определились внутри себя, как к этому явлению относиться (притом что я, как вы понимаете, не сторонник нетрадиционных отношений, не сторонник траты бюджетных средств на их пропаганду и понимаю, что в данном случае организаторы форума просто не просчитали возможность провокации). Не знаю, стоит ли здесь напоминать, что первое «советское» поколение(тоже наверняка, по мнению эмигрантов, «лишённое нравственных координат») сгорело в войне, и во многом именно его жертве мы обязаны нашей Победой.
Мне важно показать, что промыслительная воля подчас мудрее «очевидных» мнений даже самых разумных людей. Нет правых или виноватых, нет лучших или худших – есть исторические обстоятельства, сформировавшие и то, и другое поколение. Однако время идёт, и строить будущее на основании «скелетов в шкафах» невозможно. И важнейший вопрос, который непосредственно завязан на различиях между поколениями, это вопрос о дальнейшем развитии нашего писательского Союза.
Существуют две модели, в рамках которых может развиваться Союз писателей России. Нельзя сказать, что это модель «отцов» и модель «детей». Скорее, одна из моделей несостоятельна и опирается на худшее в позиции «отцов», а вторая – единственно возможна, так как объединяет всё здоровое у тех и других. Первая основана на желании занять оборонительную позицию и создать катакомбу на 8 тысяч человек. Сторонники такой модели жёстко разделяют литературный мир на «наших» и «ненаших», пропагандируют идею невозможности «двойного членства» в разных писательских союзах, оперируют при этом псевдорелигиозными категориями (сотрудничество с СРП – экуменизм и т.д.), призывают принять невообразимые декларации, навсегда отделив «агнцев от козлищ». В метафизическом «лесу», который ты не можешь понять, легче всего придумать простейшие первичные признаки для различения добра и зла, чтобы хоть как-то ориентироваться (а ещё надёжнее закрепить их юридически). Но к литературе это не имеет никакого отношения.
Вторая модель – модель Союза писателей, находящегося или пытающегося находиться в центре современного литературного процесса, собирая вокруг себя всё талантливое и умное. Это вовсе не значит, что внутри него отсутствует иерархия. Но в этой модели не отсекают талантливое по причине несоответствия общественной установке и духу катакомбы. Взять ответственность за всю современную русскую литературу, а не за её кусочек – вот задача такого Союза. Но для этого необходимо отказаться от оборонительной тактики. Такой Союз я нахожу внутри себя как идеальный образ. Этот Союз для меня – воплощение единой большой русской литературы в современном её состоянии. Я не знаю, например, состоит ли в СПР Алексей Иванов, не знаю, состоял ли в СПР Олег Павлов, но для меня они – Союз писателей, потому что это крупнейшие современные прозаики. Это же касается и молодого поколения. Юрий Лунин, Максим Алпатов, Елена Жамбалова, Дарья Ильгова, Константин Комаров – внутренне я воспринимаю их частью Союза (хотя и уважаю их самоопределение или не-определение). Идея общего большого Союза может сплотить и «отцов», и «детей», потому что запрос на единый литературный процесс чрезвычайно высок. И тогда не имеет никакого значения, состоит ли хороший писатель в другом союзе, важно, что он у нас, и с ним и мы становимся сильнее. И не важно, какие общественные взгляды имеет писатель (естественно я оставляю за скобками всё маргинальное: вроде русофобии или антисемитизма, но такие люди, чаще всего, творчески несостоятельны). Повторю ещё раз эту формулу: Союз писателей – вся подлинная современная литература. Достижение этой задачи вряд ли возможно, но направление движения, на мой взгляд, единственно верное.
Оборонительная тактика и стремление быть частью, а не целым – первая и ключевая проблема, следующая из психологии катакомбы. Вторая проблема – практически полное отсутствие профессиональной критики в «нашем» литературном процессе. Ведь настоящая критика – это, прежде всего, поиск истины, попытка разобраться и найти объективность. Но в состоянии внутренней эмиграции во внешнем мире истины априори быть не может, всё внешнее можно только ругать. А внутри истина как будто и так есть, а значит и искать, и разбираться, по сути, не в чем. Я с большим удовольствием читаю статьи Вячеслава Лютого; приятно мне стремление журнала «Родная Ладога» к философской критике, продолжающей традиции «Москвы» Бородина и Кокшенёвой; случаются иногда отдельные радостные находки, но подавляющее большинство того, что выдаётся за критику в консервативном литпроцессе, это эссеистика или публицистика, тогда как, скажем, во внешнем поле остался академический журнал «Вопросы литературы», да и в некоторых условно «либеральных» толстых журналах и электронных ресурсах современная критика существует и развивается. Я говорю это не чтобы унизить нас, а чтобы поставить одну из самых острых проблем консервативного поля, напрямую следующую из «скелета в шкафу» поколения «отцов».
Критика – это уважение к явлению, даже если оно негативно или имеет отношение в основном к литературному процессу, а не собственно к подлинной литературе. Взамен критического осмысления мы зачастую имеем информационную войну: «наши» идеи и «наши» авторы должны быть продвинуты, а враждебные – подвергнуты порицанию. Но что мы называем враждебным? Яростную русофобию – так она и не нуждается в опровержении, как не нуждается в опровержении всё маргинальное. Игру ради игры в литературе – так она уже лет двадцать как не в мейнстриме. Либерализм – а что мы понимаем под этим термином: публицистику в духе «Нового мира» Твардовского или работы крупного критика Ирины Роднянской, или вдохновенный поиск без надежды обрести опору от тонкой и чуткой к любому проблеску таланта Валерии Пустовой? Пусть информационной войной занимаются публицисты вроде Захара Прилепина.Мы давайте займёмся делом, где есть «познание» и «воля» критика, а не только желание «как можно сильнее прокричать своё, пусть неглубокое» (потому что глубокое кричать невозможно, его можно только открывать в результате напряжённого и последовательного поиска).
Второй важный вопрос, который отличает «отцов» и «детей», это отношение к понятию «личность» и соотношение личного и общественного в жизни. Для отцов, сформировавшихся в советскую эпоху, общественное выше личного, и мера признания этого первенства определяет для них меру любви к Родине (кстати, это свойственно и для «отцов» в либеральной части литературного процесса, только там общественное принимает форму антисоветского). С позиции «сына» я согласен с этим, но не как с безусловной установкой, которую «нужно» разделять. Признать общественное важнее собственного личного – это, прежде всего, выбор личности, а не некий наперёд заданный нравственный закон. И если это выбор сознательный и твёрдый, а не просто следование навязанной норме, то это – высочайший уровень развития личности. Но опять-таки первична здесь для меня сама личность и её выбор. Поколению «отцов» же зачастую не важно, происходит принятие установки свободно или бездумно, глубоко ли укореняются «правильные» истины внутри или же остаются на уровне формулы.
Старшее поколение легко оперирует «безличными» категориями в духе Спинозы или Владимира Соловьёва: «смысл существования России», «русская идея», «русский дух», «традиция», «нравственность» – зачастую это остаётся на уровне публицистики определённого направления, не спускаясь на уровень философской метафизики, возможной лишь там, где начинается самопознание и самоопределение личности. Замечательно это показано у специалиста по русской философии конца ХХ века Николая Ильина в его книге «Трагедия русской философии». Характерное следствие глубоко советского в плохом смысле стремления к подавлению личности – «комплекс родителя», знающего как правильно, а как неправильно, что нравственно, а что безнравственно, желающего всем вокруг «причинить добро», – явление чрезвычайно распространённое у поколения «отцов».
Конечно, так выглядит ситуация субъективным взглядом «сына», на деле же недостаточное внимание к личности и её свободе стократ компенсируется у поколения «отцов» духовным напряжением жизни и умением больше действовать, чем рефлексировать о возможном действии, умением тащить на себе жизнь по установленной колее к тому, что воспринимается как добро. Это разные способы бытования в мире, обусловленные разными историческими условиями становления поколений. И потому с точки зрения публицистичности жизни поколение «отцов» кажется мне сильнее, но с точки зрения глубины осмысления подход «сынов» перспективнее (с этой разницей связано, кстати, и то, что из двух крупных прозаиков тридцатилетних Андрея Антинина и Юрия Лунина «отцы» выше ценят близкого им по общественному пафосу Антипина, а «сыны» психологически глубокого Лунина).
Мне кажется, «идеологический» компонент возникал в русской литературе вовсе не благодаря тому, что сейчас понимают под словом идеология. Просто в какой-то момент крупная личность пленялась идеей, начинающей жить внутри неё и гореть, и тогда возникали и «Кто виноват?», и «Что делать?», и «Мать», и «Как закалялась сталь». Именно это горение личности, вдохновленной идеей и готовой ради неё на всё, и определило «идеологичность» данных произведений – но при этом само горение было глубоко субъективно и лично и потому, скорее, противоположно общественному смыслу понятия «идеология».
Впрочем, результаты даже такого горения вовсе не являлись высшей точкой развития русской литературы, потому что подлинная её традиция зародилась в пушкинских поисках «истинного романтизма» и объективации и воплотилась в точной и чистой ноте рассказчика «Капитанской дочки». Эта точка виденья была по возможности очищена от субъективного напряжения, из неё мир обозревался в его целостности и полноте. Русская критика ценила этот объективный взгляд выше идейной страсти и тщательно отслеживала его развитие (скажем, в работах Николая Страхова о связи образа Белкина с образом автора «Войны и мира»). Позже в русской литературе появился новый метод, а именно – столкновение идей, воплощённых в личностях (первым заговорил об этом Розанов в статье о Великом инквизиторе, а потом это нашло воплощение в спекуляциях на тему полифонии Достоевского у Бахтина), но в любом случае и этот метод был также крайне далёк от субъективного горения личности автора одной идеей и уж точно бесконечно далёк от прямой идеологии.
И здесь условная «ставка «сынов» на первичность категории личности кажется мне более зрелой. И как ни парадоксально для кого-то, более близкой нашей национальной традиции.
В отношениях между «отцами» и «детьми» важную роль играет поколение «дедов», и не сказать здесь о нём значило бы не показать ситуацию во всём её объёме. «Деды» – это или молодые фронтовики, или дети войны. Зачастую это люди с крепким нравственным стержнем – цельные личности, выточенные как бы из одного куска камня. Я хорошо знаю это чувство, когда приезжаешь в регион и встречаешь там писателя старшего поколения, который вдруг скажет что-то простое, но весомое, и словно Лобанов через него к тебе обратился, и нравственное зерно то же, и даже интонация та же. Отношения с такими людьми выстраиваются сами собой на их безусловном духовном первенстве, но они не утверждают это первенство специально, не требуют его. Тот же Михаил Лобанов, будучи втрое старше нас, его студентов, никогда не подавлял нас, мы всегда видели только интерес к нам и уважение к нашей свободной воле. Как вам писать и думать – ваше дело, словно бы говорил он, но я сейчас скажу вам, как думаю и вижу я, ведь я всей своей жизнью доказал право так думать и видеть – и мы слушали и в каком-то смысле безусловно подчинялись, но это происходило органично, без напряжённого нравоучения (к которому зачастую прибегают «отцы»).
Поколение «дедов» – это поколение титанов, и в нравственном, и в творческом отношении. Если говорить непосредственно о критике, то для меня вполне очевидно, что Кожинов, Лобанов и Палиевский – фигуры полёта Белинского, Григорьева и Розанова, высокие ноты традиции, нуждающиеся в осмыслении. Их младшие современники, «отцы», зачастую испытывают вдохновенное преклонение перед их борьбой за русскую идею, но игнорируют вклад собственно в литературу. Или же настолько уважают их авторитет, что принимают наследие «дедов» безусловно, не умея или не желая переработать его творчески (подобно тому, как Чернышевский в статьях о Белинском мог лишь цитировать его огромными кусками, изредка вставляя свои одобрительные комментарии).
На первом круглом столе Совета по критике уважаемый и любимый мною Юрий Павлов сказал: всё, что нужно знать о назначении критика, читайте в работах Кожинова «Самое лёгкое и самое трудное дело» и «Познание и воля критика». Это действительно отличные статьи, и я благодарен Юрию Михайловичу за то, что в своё время открыл их благодаря ему, но неужели в двух крошечных заметках Кожинов высказал всё раз и навсегда? Разве не появились у нас сейчас новые вызовы, – например, крайне востребованная сегодняшним читателем «рекомендательная» критика а-ля Галина Юзефович или Лев Данилкин? Можно ли говорить на языке этого формата, но не уходить в коммерческую рецензию, а оставаться в поле поиска истины? Нуждается также в глубоком осмыслении вопрос о новаторстве подхода к психологическому образу у Лобанова (вопрос, имеющий богатую предысторию: берущий начало в «психологическом вопросе» Павла Анненкова; разработанный Константином Леонтьевым в статье «Анализ, стиль и веяние…» на материале романов Льва Толстого; доведённый до целого мира в работах Лидии Гинзбург). А вопрос о внеязыковой природе художественной литературы, поднятый Палиевским? Погружение в него дало бы нам пищу для трезвого осмысления многих современных поэтических опытов, находящихся в сфере языковых или смысловых находок (опять же – если не брезгливо отмахиваться от них, а пытаться понять суть проблемы).
И, пожалуй, самое важное – поставленный двести лет назад и вполне решённый русскими критиками второй половины ХХ века вопрос о художественной ценности (как объёмной и объективной правде о мире, воплощённой в личности). Наследие «дедов» огромно, и «отцам», и «детям» есть что найти в нём (не игнорируя и противоречивость вопросов, которую уж никак нельзя свести к схеме «либералы-патриоты»; скажем, оторванность Юрия Кузнецова от пушкинской традиции по Глушковой или настойчивое сопоставление Белова и Битова у Кожинова). И это – только критика (достижения «дедов» в поэзии и прозе общеизвестны)!
И вот мы опять вернулись к тому, что традиция – и, в частности, её последняя полноценно взятая нота, чрезвычайно высокая нота поколения «дедов» – это то, что нас действительно объединяет. Что же касается совместного существования в организации литературного процесса, тут, видимо, есть лишь один выход: научиться слушать друг друга и принимать друг друга при всех различиях и противоречиях. Отцам – уважать свободу личности, принять молодых как вполне состоявшихся здоровых тридцати-сорокалетних людей, достойных доверия. А сынам – понять, что доверие подразумевает ответственность, что они тоже отвечают за наш Союз и за современную литературу. Уважать отцов за их опыт и профессионализм, понять их желание быть для нас тем, чем были «деды» для них. Сказать спасибо за катакомбы, в которых хотя бы «принято» говорить о традиции, в которых существуют великие Кожинов и Лобанов. Мы ведь и не знали бы их без работы отцов по сохранению наследия.
Принять отцов с их трагедией и судьбой. Судьбой, которой у нас пока ещё нет.
Елизавета Мартынова. Традиция как выбор Елизавета Мартынова (Саратов) – поэт, литературный критик, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Волга – XXIвек»1.Прежде чем говорить о традиции и новаторстве, «отцах» и «детях» в поэзии, стоит определиться с тем, что такое на сегодняшний день традиция и новаторство, и каково соотношение поэтических поколений в литературе. Эти вопросы очень важны. Думаю, каждый из пишущих и просто любящих литературу задавался вопросом: что происходит с поэзией в настоящее время? Влияет ли на поэта осознание пройденного рубежа – между вторым и третьим тысячелетиями? или век новый, а поэзия вечна, лишена признаков времени?
Влияние времени более всего ощущается в поэзии традиционной, неавангардной, когда поэт напрямую говорит о своей эпохе и современниках. Хорошо сказал о традиции поэт Евгений Винокуров: «Чтобы быть традиционным, нужен талант, нужна сила. Нужна мощь, нужна творческая дерзость, чтобы подключиться к традиции… Традиция – это не чулан с устаревшими вещами, ветошью и рухлядью. Традиция – это лучшее, что отстоялось, это всё живое, что осталось жить для нас…»
Всё большее число читателей отдаёт предпочтение традиционному направлению. Стихам реалистическим, где перед нами предстаёт живой человек в его неповторимой индивидуальности. Автор таких стихов отказывается от игровых изысков не потому, что «не умеет» использовать тот или иной приём, демонстрирующий изобретательность и эрудицию. А потому, что его творение подчиняется чувству, диктуется «тайной свободой», воспетой Пушкиным и восхищавшей Блока.
Для начинающего писать стихи автора проблема заключается в том, что понимать под традицией, какую выбрать точку отсчёта. Традицию Пушкина? Или то, что нам досталось в наследство от Серебряного века? Или от советской поэзии? Или традиция – дорога, ведущая от Пушкина к Серебряному веку, а от него – к современности?.. Ведь и поэзия постмодернизма должна обладать своими традициями.
Да, должна. Но в начале XXI века, в зыбкой ситуации окраинности, постмодернизм постепенно утрачивает (да фактически уже утратил) доселе незыблемые позиции. Начать с того, что тем, кто существует в системе постмодернизма, вдруг почему-то стало тяжело дышать воздухом абсолютной свободы. Друг друга отражают зеркала, а первой реальности как бы и нет.
Это ощущение у меня появилось, когда я начала писать стихи и интересоваться тем, что в современной поэзии происходит. Тогда же у меня у самой появился вопрос о соотношении поэтических поколений, «отцов и детей». В нашем городе я столкнулась с не очень приятной ситуацией. Точнее, с резким контрастом и взаимным неприятием так называемого официоза и местного андеграунда. И это не было контрастом поколений, отцы не были исключительно «традиционалистами», а те, кто помоложе, – «новаторами». Это был собственный выбор не только какого-то одного литературного направления, своих литературных изданий и собратьев по перу, но и выбор жизненной позиции.
Между тем существовал и ряд поэтов-«одиночек» (вот они-то мне и были по-настоящему интересны), которых нельзя отнести ни к андеграунду, ни к официозу. Они не вписались в рамки сковывающего творческую свободу официоза, не вошли в состав андеграундных групп, так как были приверженцами традиции.
Получилось, что так называемые «новаторы» были мне чужды, оттого что поэзия для них была просто игрой, а роль поэта – просто ролью. В традиционной же поэзии «дышит почва и судьба», и мне это оказалось понятно и близко. Представители же местного официоза предполагали, что прилично пишущих молодых авторов не существует в природе – и не только в Саратове. Так что пришлось мне тогда, в начале двухтысячных годов, сделать выводы для себя неожиданные. Видимо, дело не в поколенческом конфликте, который связан больше с особенностями окололитературной жизни.
2.Как мне кажется, любое новое поэтическое поколение – это не обязательно авангард (то есть такое поколение, которое пытается сбросить предыдущее с «парохода современности»). По крайней мере, со времён появления «актуальной поэзии» я этого не наблюдала. Но «актуальная поэзия» – это, по-моему, своего рода вторичный футуризм, опять же вторично осложнённый перформансом (то есть, по сути, нелитературными элементами).
Лично я против чисто формального новаторства – такого, которое подвигает автора осознанно к старанию отличаться от других и не быть собой, а быть особенным. Когда же возможность стать собой – в жизни, в мире, в языке, в литературе – начинает реализовываться, то тут уже особенности поэтического дара проявляются естественным путём. Если этот дар есть, конечно.
В нашем сознании новаторские течения прочно связаны с появлением литературных групп, школ, т.е. с явлениями коллективными. Объединение даёт уверенность в том, что писатель не «заблудился», а руководствуется выверенными – и современными – ориентирами. Но создание специальной школы, литературной группы в конечном счёте ограничивает человека, вначале, возможно, поддерживая его известность, активность в современном литературном процессе. Не может быть единых коллективных рамок для развития, любая самая новаторская теория «словотворчества» ставит предел возможностям поэта. Любое единодушие временно (примеры из Серебряного века).
И всё-таки объединения всё равно создаются. И стоит задуматься, для чего и почему.
Начнём с того, что эти группы, как правило, составляют люди молодые, для которых всё в жизни открывается впервые и которые отметают прошлое уже просто потому, что оно прошлое. И желание их создать нечто новое совершенно естественно. Но только когда они пройдут свой жизненный круг – круг опыта жизненного и художественного, тогда то, что было в литературе до них, будет освещено новым светом.
Далее, часто молодых поэтов упрекают в том, что они «изобретают велосипед», указывают им, что необходимо больше читать, учиться. Собственно, для учёбы и нужны студии, семинары и литературные форумы. И тогда тот, кто умеет учиться, действительно учится. Ну а кто-то не умеет и не может. И с этим ничего не поделать, не все станут поэтами…
Но иногда происходит вот какая интересная вещь. Научившийся, усвоивший современные техники, веяния и прочее автор начинает писать грамотно, он публикуется – и в толстых журналах в том числе (его же научили писать «как надо»), но на себя-то он не похож. Он похож на основную массу, на направление.
Да, обучать молодого автора необходимо. Но, думаю, лучше, если ученик сам найдёт своего учителя – по своему душевному складу. И нужно давать возможность начинающему изобретать этот самый наивный велосипед, даже в нарушение законов ремесла. Воздух и рост нужны в самом начале без ограничений. «Охлаждение мастерства» (образ из стихотворения Владимира Соколова о Лермонтове) всё равно наступит, если поэт захочет учиться и этого мастерства достичь.
Молодой поэт растёт благодаря прочитанной классике, из самостоятельно выбранных современных книг. Если этой базы нет – не будет и тяги писать душой, а не просто выплёскивать эмоции (что вполне возможно и без стихов).
Говоря об «изобретении велосипеда», я имею ввиду, что поэт в самом начале своего творческого пути может изображать чистые душевные движения, незамутнённость и неповторимость которых почти всегда неизбежно утрачивается (но это не значит, что стихи становятся хуже). Вот эта чистота душевного движения, динамика, поднимающая стихотворение ввысь – лучшее новаторство.
Я не очень люблю вывихнутый синтаксис и нарочитую архаизацию. Но и эти крайности возможны как эксперимент, как шаг к более гармоничному поэтическому миру, как пауза перед ним. Традиция не связана с подражанием и стилизацией, о которой иронически говорит Владимир Набоков в романе «Дар»:
«Он в стихах, полных модных банальностей, воспевал «горчайшую» любовь к России: есенинскую осень, голубизну блоковских болот, снежок на торцах акмеизма и тот невский гранит, на котором едва уже различим след пушкинского локтя… Эпитеты, жившие у него в гортани, – «невероятный», «хладный», «прекрасный», – эпитеты, жадно употребляемые поэтами его поколения, обманутыми тем, что архаизмы, прозаизмы или просто обедневшие слова вроде «роза», совершив полный круг жизни, получали теперь в стихах как бы неожиданную свежесть, возвращаясь с другой стороны… эти слова делали ещё один полукруг, снова являя свою ветхую нищету. …И всё это было выражено бледно, кое-как, со множеством неправильностей в ударениях…»
Набоков здесь говорит о чисто внешнем, формальном восприятии традиции как совокупности приёмов и эклектичном копировании образов классиков. Цитата свидетельствует о том, что ничего со времен Набокова не изменилось, что живое и органичное восприятие традиции всегда было делом трудным – более трудным, чем попытка чистого отрицания.
Часто эти два процесса – усвоение традиции во всей её глубине гармонизация её с живым разговорным языком происходит одновременно (Борис Рыжий).
3.Что происходит в современном поэтическом мире молодых? Попробую сориентироваться, несмотря на то, что он очень пёстрый.
Бросается в глаза огромное количество пишущего народа, поголовная грамотность внешнего толка. Оставив в стороне тех, кто не владеет техникой на уровне ремесла, мы всё равно получим значительное число способных версификаторов.
Беда их в том, что они в своих текстах ведут себя как новаторы, усвоив чужие приёмы (модернистские, постмодернистские или так называемые традиционные – вот как раз то, о чём говорил Набоков), чистота душевного движения в их стихах утрачена (если она была), и литературной образованности тоже нет, есть полуобразованность.
Но всё-таки вторичность этих стихотворных произведений – не главное. Главное в том, что у многих молодых авторов, даже способных, утрачены жизненные и творческие ориентиры – и смысл самого создания стихотворения. Остатки этого смысла заключаются в 1) выплеске эмоций, в психотерапевтическом эффекте самого процесса письма и 2) в самоутверждении (и тут появляются так называемые художественные средства, в основном сводящиеся к штампам и красивостям). «Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум». Лирический герой ощущает только пустоту жизни, а автор не чувствует поэтической цели. Поэтому если смешать строки из стихов нескольких десятков случайно выбранных (допустим, с одного литературного конкурса) авторов, то скорее всего, индивидуального мы в них не увидим.
Вот эта бесцельность и пустота как определяющие черты меня очень настораживают. Слишком этого много, как, впрочем, и эпигонства. Под Бродского уже писать стало не модно, зато интонации Бориса Рыжего встречаются очень часто. Опять же, это не продолжение традиции, а стилизация, копия. Можно быть и талантливым копиистом, но при этом осознавать границы своих возможностей.
Выбор поэтических ориентиров тоже иногда мне кажется странным, эклектичным. На поэтических семинарах молодые писатели называют имена Евтушенко, Вознесенского, и тут же Иосифа Бродского и Юрия Казарина. Ну и Бориса Рыжего, конечно. Но почти никто не вспоминает Николая Рубцова, Юрия Кузнецова, Владимира Соколова, Алексея Прасолова, Анатолия Передреева, Николая Тряпкина, более близких по времени поэтов: Николая Зиновьева, Светланы Сырневой, Дианы Кан, Александра Нестругина, Евгения Семичева, Сергея Васильева и других, тех, кто, по сути, и являются продолжателями русской литературной традиции.
Однако в каждом регионе – и мне как литературному редактору приходилось в этом не раз убеждаться – появились интересные молодые поэты, которыеусваивают, впитывают многообразие русской поэтической традиции, руководствуясь своим вкусом. Это Руслан Кошкин, Мария Знобищева, Карина Сейдаметова – те, кого знаю уже давно, и мне кажется, что они уже как поэты сложились. Из тех, кого узнала позже, – Григорий Шувалов и Мария Четверикова, Влада Баронец и Иван Александровский. Мне интересно, что получится из Александра Рухлова, Павла Великжанина, Василия Нацентова. За последнее время отметила для себя стихи Александра Тихонова, Дмитрия Ханина, Елены Жамбаловой.
Объединяет их всех то, что в эпоху расчеловечивания и преобладания внешних ценностей – они это истинно человеческое находят и расчеловечиванию противостоят. Они пытаются понять себя во времени, в традиции, осознать, что они тоже её «прочное звено» (В. Ходасевич). Поэтому так много у них стихов о родстве, родственниках, предках – о связях с прошлым. Это показатель творческой зрелости.
Главное в том, что за их стихами я вижу «внутреннего человека», опыт гармонизации современности, объединения временных пластов («время собирать камни», и они их собирают). Вижу и влияние старших современников-поэтов, и это тоже прекрасно. Значит, традиция не прерывается.
Мария Знобищева. Почитают ли дети отов? Мария Знобищева (Тамбов) – поэт, прозаик, кандидат филологических наук.О музах – послушных и непослушных
Разговор о таланте, отмеренном тому или иному поколению поэтов, — это, на самом деле, разговор о даре человечности и любви. Душа поэта должна быть идеально настроена, потому что она и есть наш главный инструмент. Идеальной настройке противостоит «окамененноенечувствие» — та стадия равнодушия к ближним, на которой они воспринимаются уже как дальние. Маленькие человечки, едва различимые с вершины той горы, имя которой – гордость, это уже не ближние. В подобном ракурсе художественного зрения не может быть любви.
В своём поэтическом «Памятнике» А. С. Пушкин оставил поэтам будущего три свидетельства о содеянном: «…чувства добрые я лирой пробуждал», «в мой жестокий век восславил я свободу» и «милость к падшим призывал». Три столпа, на которых держалась его поэзия: добро, свобода и милосердие. А выше всего этого – то, из чего они воздвигнуты силой божественной лепки, – любовь. Но главное – дальше: «Веленью божьему, о муза, будь послушна». Не своевольному человечьему хотению, но – божьему веленью.
Старо как мир, но ничего важнее и больше не скажешь. На сотни и тысячи лет вперёд нам дан путь, идти по которому иначе не получится. Только со словами молитвы: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Любви противостоит гордыня, а отделение себя от других – верный признак того, что мы в неё впадаем.
В статье «В чём же наконец существо русской поэзии и в чём её особенность» о трёх источниках лирического размышлял в своё время Н.В. Гоголь. Он видел эти источники в «самом языке нашем», высшие образцы которого явлены в «слове пастырей», в народной песне и в русских пословицах с их житейской иронией, афористической точностью, добрым юмором. В статьях о Пушкине Гоголь продолжил пушкинскую мысль о том, что «слова поэта суть дела его», развивая мессианскую концепцию «поэта-пророка», заданную Державиным, Пушкиным и Лермонтовым.
Думается, источники поэзии не оскудели и ныне. Они напитали русский литературный язык, который продолжает быть основой языка поэтического и в поэтической речи находит возможность нет-нет да и показать свои редкие, в других контекстах не востребованные сокровища. А вот что касается поэтического поведения (если можно назвать это так), то здесь не всё однозначно.
В начале нулевых среди моих молодых друзей был распространён синдром, который мы в шутку называли «синдромом послебродскости». Он означал невозможность писать на прежнем поэтическом языке, который существовал до Бродского. Для одних эта невозможность вылилась в специфическую подражательную интонационную манеру, для других – в абсолютный уход из поэзии в другие формы литературы и искусства.
Между тем, примеряя форму, чуждую нашему существу, мы примеряем на себя и стоящее за ней содержание, которое подчас, словно платье на вырост, делает нас нелепыми. Забавно было читать строки своих вполне розовощёких ровесников о бескрайнем одиночестве на просторах «российской ойкумены», расшифровывать многокилометровые лингвистические ребусы, суть которых стремилась к нулю.
Наметилось весьма специфичное отношение к «почве» как пристающей к новеньким туфлям центрально-чернозёмной грязи, осложняющей выход на паркет большого литературного бала. Однако жизнь без корней оказалась непродолжительной. Наметилась проблема поиска новых ориентиров, поворот к традиции, к космосу Ю.П. Кузнецова, стремление осваивать вертикаль, а не горизонталь русского поэтического пространства.
Почему мы говорим о поколениях «отцов» и «детей» в поэзии? Зачем делим поэтов на старших и младших? Не потому ведь, что «дети» ещё только учатся ходить, ещё многое делают наугад и не боятся «изукрасить» словесный узор подслушанным на улице словом. Мы говорим о разной степени включённости в традицию, а также о том, как меняются духовные координаты художественного пространства по мере обретения жизненного и творческого опыта.
Молодое самолюбование, игривые и радостные попытки найти отражение себя и собственных чувств в каждом образе и явлении по-своему прекрасны, но не могут длиться вечно. На переходе к другим поэтическим задачам важно осознать, насколько выросло твоё сердце, каковы его «вместимость» и наполненность. С даром любви, безусловно, рождаются. Задача поэта – не растратить его на безделки, взрастить, продлить в пространстве и времени.
Этому не научат ни в школе, ни в Литературном институте. Это, по-пушкински, каждый должен сделать из себя сам. Требуется судьба, некий сюжет жизни, дающий право на тот или иной путь в поэзии. Но не стоит отказывать в праве писания тем, чья жизнь не выходит из внешних границ общечеловеческой нормы. Если каждому даётся по его силам, то пусть «каждый пишет, как он дышит», важны любые проявления истинно художественного – от великих полотен до акварельных миниатюр.
Обращаясь к тургеневской метафоре, на которой фокусируется проблематика сегодняшнего круглого стола, хочется вернуться к сути конфликта поколений, разыгравшегося между Базаровым и семейством Кирсановых. Аристократичного Павла Петровича, как вы помните, раздражала непочтительная манера поведения «Аркашиного приятеля». Базаров с треском ломал рамки этикетной нормы, доставляя Павлу Петровичу почти физические страдания.
Не так ли происходит в современной поэзии? Шум и треск, которыми окружены отдельные явления молодого поэтического мейнстрима, действуют на слух некоторых ревнителей нормы раздражающе. Вопрос в том, почему. Видят ли они в этом действительную угрозу? Чувствуют ли колебание пушкинских столпов? Это уже вопрос к «отцам».
Нам же представляется, что такие явления – не новость. Очередные «нагрянувшие гунны» от литературы «пошумят, да перестанут», и колеблемый «в детской резвости» треножник не опрокинется. Вопрос в сути и обоснованности протеста, если таковой вообще имеется.
Боюсь, что никакого качественного протеста со стороны нынешних «детей» просто нет. Почему боюсь? Да потому, что у большинства не хватает энергии серьёзно оспаривать старое. Соответственно, нет и возможности противопоставить старому что-то новое (формальные эксперименты и очередной каскад поэтического новояза – не в счёт). Значит, нет естественного и необходимого столкновения противоположностей, нет обновляющей силы, которая породила бы иной уровень поэтического мышления.
Получается, что глубинный конфликт отсутствует. Есть те, кто добродушно посмеивается над верностью иных художников канонам соцреализма. Есть те, кто делает вид, что современной поэзии нет. Но желания что-то друг другу доказывать, дразнить и провоцировать метров, вызывая их на поэтический турнир, нет.
Отдельные же проявления поколенческих распрей касаются, скорее, формальной стороны творчества: способов распространения текстов (книга или интернет), отношению к пиару, популярности в народе, борьбы за премии.
Различия между поэтами, как видится, заключены не в возрасте, не в принадлежности к поколениям, а в наличии либо отсутствии поэтической совести, в отношении пишущих к сакральной сущности слова. Проблемы поэтической этики сейчас первостепенны. Кажется, что правят бал отнюдь не послушные «веленью божьему» музы. Кимвал бряцающий слышнее лиры – так уж устроен мир. Но это не означает, что поэзия умирает.
Причины конфликта поколений нередко кроются в нежелании младших слушаться старших. Но здесь важно уйти от схемы. Преклоняться перед старшим коллегой только потому, что он уже сорок лет состоит членом Союза писателей и воспевает берёзы у крыльца, в наше время нелепо. А если «старшие» выступают как трансляторы космических смыслов и духовных откровений, почему бы к ним не прислушаться?
Возвращаемся к вертикальной модели роста. Преодолеваем человеческое, восходим к божественному. Не слушаем старших, тогда – кого? Послушны ли «веленью божьему» молодые музы? Мне думается, что однозначного ответа нет. Поэт – существо свободное, рождённое сопротивляться обобщениям. У каждого свой путь и своя вера. Когда для того или иного художника настанет время сложить знамёна неверия, и настанет ли, — решать не «отцам». Заставить верить поголовно – не получится.
Смысл творчества – в созидании. Если поколение отрицает, созидая, оно породит великого поэта, и не одного. Если поколение не отрицает, но созидает, плывя по привычному руслу, – это тоже неплохо. Поэты будут — быть может, хорошие, но вряд ли – великие. Если же нет ни отрицания, ни созидания, приходится констатировать смерть, духовное охлаждение, ибо страшнее всего тот, кто «не холоден, не горяч». Он просто недееспособен как художник.
Тут мы подходим к самому больному вопросу современности: к битве за человеческую душу. Увы, она разворачивается не на страницах литературных журналов. И поэт сейчас «больше, чем поэт» в том смысле, что ему, если он настоящий, приходится делать всё, чтобы быть достойным воином в этой битве: уходить в публицистику, педагогику, медицину и даже – в ненавистную политику. Необычайно важен в наши дни институт наставничества. Исходя из собственного опыта, свидетельствую, что старшие помогают младшим много и охотно. Правда, не у всех начинающих есть встречное желание быть охваченными чьей-либо заботой (и тут приходится констатировать молодёжный поведенческий кризис: увы, не все сегодня способны испытывать благодарность).
Словом по-прежнему можно спасти, но многие ли услышат его за шумом нового времени? Возвращаясь к Тургеневу, «как не впасть в отчаянье при виде всего, что совершается дома?». Удержать свою душу на той высоте, где царствуют истина, добро и красота, — задача титаническая. И этого мало. Из неё, из этой скорчившейся от боли души необходимо извлечь нечто такое, что объяснит, почему стреляют друг в друга братья, почему сгорают дети, почему до отдельно взятого, пахнущего материнским молоком человека никому на земле по-прежнему нет дела.
Мы подходим к вопросу о масштабе личности поэта, о его духовном воспитании и самовоспитании. Перед поэзией открываются две прямо противоположные перспективы: навсегда сойти с арены общественной жизни, превратившись в удовольствие для узкого круга эстетов, или стать духовной силой, предлагающей людям иные способы постижения мира.
До того ли сейчас, чтобы «детям» мериться ростом с «отцами»? Наступает время преодолеть любые разделения и осознать, для чего мы живём и пишем. Нет правых и нет виноватых, нет своих и чужих, нет молодых и старых. Есть только свет и тьма, обступающие нас каждую минуту. Есть общие задачи, которые с одинаковой силой призывают к себе и тех, кто только начал писать, и тех, кто сформировал своим творчеством целую литературную эпоху.
Поэзия – это путь преодоления мрака – прежде всего, в нас самих, в сердце каждого художника. Если такая победа одержана, поэт найдёт своего читателя и, даст Бог, поможет ещё кому-то.
Для вечности 20-30 лет, разделяющие два поколения, не значат ничего. Утихнет лёгкая буря, всех и вся успокоят летейские воды. Останется журчанье струй да шелест камыша у берега, да свистящие над берегом стрижи, да облака над ними. И чей-то лёгкий шаг, и новая, замирающая от земной красоты душа, и звонкий голос… «А быть или нет // Стихам на Руси — // Потоки спроси, // Потомков спроси…».
Сергей Хомутов Поэт, издатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации.Оценивая сложности воспитания литературной смены, считаю, что начинать серьезную работу надо с 20-25 лет (можно и раньше), пока юные дарования не оказались в котле совещательно-тусовочного варева, не приняли от старших товарищей дурной опыт окололитературного общения. Именно в раннем возрасте надо объяснить молодым, куда идут, что для этого нужно, и дать необходимые материалы для теоретического, а затем и практического освоения. После 30 можно только за уши вытаскивать из болота тех, кто все-таки понял: приобретает не то, что необходимо писателю. Ну а те, кто раньше осознал, в болото и не попадают.
Задал одному члену СПР – поэту, которому нет еще и 30, – вопрос: ездит ли он на совещания? Ответил, что ему это ни к чему. Достойный пример: поучился в меру и теперь успешно отдается самостоятельной творческой работе.
Молодые писатели сейчас зачастую так и остаются «молодыми», продолжают ходить в этом звании. Помню, когда нас принимали в Союз писателей СССР, сразу этот ярлык отпадал, поскольку в организацию не приходили случайные люди, здесь люди проверялись годами, десятилетиями. Когда я стал полноправным членом СП СССР, за водкой меня уже не гоняли. На областных семинарах молодых авторов я был уже среди руководителей вместе со старшими, в том числе приезжающими известными московскими писателями. Так вот и надо: принять молодого писателя не как «молодого», а как «писателя». Тогда он сам потянется к работе, проникнется естественным уважением к старшим, а не навязанным преклонением перед авторитетами.
Разговор об отцах, детях и дедах и дальше стоит продолжать, чтобы находить разумные пути развития молодой литературы. Точнее – не молодой, а литературы в целом, поскольку она едина.
Нина Ягодинцева. Отцам и детям (Материнско-культурологическое эссе) Нина Ягодинцева (Челябинск) – кандидат культурологии, доцент Челябинской государственной академии культуры и искусств, секретарь Союза писателей России, член Совета по критике СП РФ.В самой формулировке вечной проблемы отцов и детей есть отчётливо выраженный гендерный акцент: речь прежде всего идёт о мужском наследовании смысла, опыта, власти, права действовать. И здесь неизбежно присутствуют болезненно обострённые коллизии утраты-обретения силы, признания-отрицания опыта, передачи-приёма (а часто и потери-захвата) власти, связанные неизбежно с отцовской-сыновней любовью и ревностью. Ничего не поделаешь – таков мужской мир. В его бытовой конкретике перечисленные коллизии естественно отягощаются самолюбием, а в литературе – ещё и нормальным творческим эгоизмом.
Но если процесс смены поколений – это всегда в известной степени драма, то ситуация, когда преемственность по каким-либо причинам прерывается, – безусловно, трагедия. И потому, возможно, стоило бы наконец включить в обсуждение проблемы взгляд женский, материнский, ибо материнское чувство к детям так же, как и отцовское, исполнено любви, но по самой своей природе свободно от соперничества и ревности (тут, конечно, ассоциативно возникает линия «дочки-матери», но она гораздо более личностна, чем социальна, более бытова, чем бытийна, и потому в наших размышлениях ею пока возможно пренебречь).
Смена литературных поколений происходит сегодня в условиях экстремальных: помимо основных проблем передачи опыта существует ещё целый ряд вроде бы второстепенных факторов, каждый из которых при определённом повороте событий может оказаться решающим по отношению к дальнейшей судьбе литературы.
1. Общезначимые социальные факторы. Демографическая дыра.В условиях радикальных социально-культурных трансформаций из литературного процесса выпала большая часть рождённых в 1960-е (по неофициальной статистике, в этом поколении выжил каждый пятый – а в литературе счёт ещё страшнее, но многие и просто не пришли в неё, так как прожить литературным трудом стало невозможно). Та же участь постигла рождённых в 1970-е: жертв и «непришедших» там оказалось едва ли не больше.
Отсутствие «социальных ниш» для полноценной профессиональной литературной деятельности привело к тому, что литература стала преимущественно занятием «для души», для самовыражения, то есть по факту отнесена к хобби. Соответственно, к ней массово подтянулись те, кто «может позволить» себе подобное хобби. Подавляющее большинство из них уже вышло на заслуженный отдых и вспомнило о мечтах, которые не сбылись в суровые девяностые. Отдельную яркую, но немногочисленную группу составили те, кто написать может не очень, а заплатить – да. Это всё сказалось и на общем литературном деле, и на ситуации в ослабленных писательских ячейках.
Резкая смена идеологии.Идеология во многом определяет социальную основу личности. А мы знаем, что социальная основа личности – та её часть, которая формируется на всю жизнь и практически не изменяется.
Сегодня беспощадно сталкиваются, громыхая бронёй формулировок, жёсткие идеологемы советского периода (советские-антисоветские), идеологемы 1990-х и начала ХХI века.
Имея в виду «демографическую дыру» литературного процесса, можно констатировать: социальная основа «отцов» – жёсткая поляризованная идеология, а вот «дети» социально сформировались уже в условиях идеологии скрытой, манипулятивно-противоречивой. Нет перехода, нет базы даже для принятия-отторжения, есть крайнее удивление друг другу и стремление либо навязать свои установки («отцы»), либо молча выйти из зоны взаимонепонимания и дискомфорта («дети»).
Радикальное изменение общественной роли литературыТо поколение, которое стремится передать эстафету молодым, исходит из убеждения, что литература – дело государственное. Соответственно, оно должно поддерживаться государством и работать на его развитие и укрепление (а в антисоветском изводе – работать на ослабление и разрушение государства и, соответственно, им преследоваться).
Но социальная роль литературы сегодня сведена на нет до такой степени, что даже и повсеместный призыв «читать!» практически не предлагает ориентиров, заставляя вспомнить древний одесский анекдот: «Жора, Жора, жарь рыбу! – А где рыба? – Жора, ты жарь, рыба будет!».
В зоне ближайшей видимости находятся другие роли литературы: литература как способ заработка (в ответ на запрос рынка), литература-досуг (бесчисленные молодёжные литтусовки и фесты), литература-шоу с эстрадными ужимками и непременным лихим чёсом по городам и весям (эстрадно-коммерческое направление, сюда же относятся пресловутые баттлы и слэмы), литература как убежище от реальности – и так далее.
В последние годы стала частью рынка и массовая литературная учёба – а почему бы за хорошие деньги не наобещать писательского успеха и славы жаждущим? (Кстати, вот пример из практики некоторых интернет-курсов: «Оксюморон является стилистической ошибкой. Проверьте ваши произведения на наличие оксюморонов и исправьте ошибки». И ведь исправят, если найдут!)
Идея литературы как служения в этом пёстром калейдоскопе практически неразличима.
2.Внутрилитературные факторы Атомизация литературной средыМы уже много писали о том, что литературная жизнь сегодня рассыпана на тусовки и междусобойчики. Это, в общем-то, нормально и даже способствует развитию, если есть общее поле диалога. Но может стать и гибельным, если диалога нет. Тревожно, что атомизация продолжается. Да, точки кристаллизации вроде бы возникают, но среда становится всё более культурно разреженной – и общий диалог последовательно вытесняется бесконечными внутренними монологами.
И вот ведь парадокс: по всей стране вкладываются огромные усилия в проведение фестивалей, конференций, книжных ярмарок, публичных выступлений – но даже эти формы массовой работы либо потихоньку вытесняют литературное общение и собственно литературу, заменяя её на различного рода шоу, либо включают в себя такую долю вопиющей литературной самодеятельности, что обессмысливают всю работу в целом. Пожалуй, только форма творческих семинаров ещё работает в полную силу, но и она постепенно снижает уровень содержания.
Вполне в русле атомизации литературной жизни разворачивается деятельность многочисленных новодельных «союзов писателей», за хорошие деньги обслуживающих амбиции и аппетиты литературной самодеятельности. Юридически все подобные сообщества равноправны, но некоторые постепенно становятся «равнее других», поскольку более успешно используют первобытные законы рынка. Понятно желание профессионалов дистанцироваться от балагана, но ведь это опять работает на рассыпание…
Что делают в этой ситуации «отцы»? Они, естественно, стараются ужесточить дисциплину внутри профессионального сообщества и тем самым консолидировать его – а как иначе сохранить-то? «Дети» реагируют столь же естественно: они выбирают свободу. Тем более что идея служения отодвинута на задний план, ремесло литератора не кормит – ну и кто тут кому что должен?
Состояние иерархииВ общем и целом понятно, что в такой обстановке любая иерархия – ценностно-смысловая, творческая, административная – становится напрямую объектом агрессии и существует под постоянной угрозой обрушения. А что такое иерархия? Это, с одной стороны, итог деятельности предыдущего поколения, а с другой – лестница, по ступенькам которой можно подниматься в развитии следующему поколению. Ну или снести её вообще и не париться.
Стратегия «отцов» в этом вопросе – сохранение иерархии (творческой – и административной для писательских организаций) всеми доступными средствами, ибо для них она ещё и результат огромных собственных усилий, вложенного труда, знак определённого личного жизненного успеха. А «дети»? Им нужны либо абсолютные гарантии надёжности «лестницы» (и это здраво, им же на неё подниматься), либо права на утверждение новой иерархии (что тоже, в общем-то, вполне логично).
Состояние литературной традицииТрадицию мы понимаем как драгоценный нравственный опыт, обеспечивающий выживание и развитие народа. Опыт накапливается в ядре традиции, а её периферия может свободно трансформироваться – адаптироваться, вырабатывать новые формы для неизменного содержания и разрушать старые. Эпоха постмодерна (а теперь уже и пост-постмодерна), испытывая серьёзные проблемы с содержанием (пустышка, говоря проще), отдаёт первенство формам. Формы множатся, вызывая восторг почтеннейшей публики, и содержательной частью литпроцесса становится бессмысленное формотворчество.
Как реагируют «отцы»? Уповают на жёсткость смысловых конструкций подручных идеологем: должно быть так, а не иначе. А кто против – того на колени в угол на горох. «Детям» весело и немножко страшно: ну просто долгожданный праздник непослушания! Но и те, и другие реагируют преимущественно на форму, а не на содержание – эпоха берёт своё! 3. Литературная учёбаПора переходить к главному вопросу: как передать от отцов к детям жизненно важный опыт в отсутствие связующих поколений (здесь не о персоналиях, а именно о поколениях, рождённых в 60-70-е, крайне малочисленных в литпроцессе), в условияхрезкой смены идеологии, радикального изменения общественной роли литературы, атомизациилитпроцесса, разрушения творческой (а по сути – ценностно-смысловой) иерархии и отрицания литературной традиции?
Понятно, что работа должна идти на двух уровнях одновременно: нужно разворачивать как массово-просветительскую деятельность (по сути, это воспитание квалифицированных читателей, будущих собеседников, и оно сегодня идёт широко и активно), так и выборочную профессиональную учёбу.
В основном массовую просветительскую работу выполняют сегодня многочисленные местные и региональные семинары молодых литераторов. Охват у них достаточно большой (например, мы в Челябинске собираем уже на протяжении 10 лет более 120 авторов – от начинающих до активно публикующихся). И здесь вопросов, в общем-то, нет, кроме одного: о системной поддержке на местах – как от писательских организаций, так и от администрации. Педагогические технологии достаточно просты и понятны. В молодости пишут почти все – и это хороший шанс для формирования широкого круга так или иначе причастных к литературе. Результативность таких семинаров частью включает в себя и профессиональный аспект – при наличии возможностей продолжения учёбы уже профессиональной.
В последние годы благодаря целенаправленной деятельности Совета молодых литераторов Союза писателей России сфера профессиональной учёбы выделилась из массово-просветительской, но пока ещё она находится в стадии акформирования. И если с просветительской работой в принципе всё ясно – это вовлечение молодёжи в сферу литературного общения, изучение азов литмастерства, первый серьёзный отклик на творения начинающих, поиск и поддержка молодых талантов, – то тема профессиональной учёбы всё ещё вызывает немало дискуссий.
Вечная молодостьС какого момента молодой писатель становится просто писателем?С момента, когда серьёзно заявит о себе в литературе? По логике, да. Но при том возрастном разрыве, который существует сегодня в писательских организациях, «в молодых» держат слишком долго. А между тем, даже несмотря на специфику профессии, требующей накопления духовного опыта, нормальный процесс взросления выглядит следующим образом: 30–35 лет – возраст обретения духовного совершеннолетия, далее должна происходить концентрация индивидуального духовного опыта; 40-45 лет – переход в драгоценный возраст силы, возраст прямого действия, который к 55-60 годам должен стать опытом и основой для силы духовной, действие которой более мягко, опосредовано, но более широко и мощно. И если настойчиво притормаживать тридцатилетних – в итоге они либо просто откажутся от «отцовского» опыта и очень дорогой ценой обретут свой, либо останутся безнадёжными инфантилами.
Опыт другой эпохи Вопрос «что передавать?» ещё более серьёзен.Легче всего передать форму – обучить ей и требовать её соблюдения, а также распознавать по её употреблению «своих» и «чужих». Что, собственно, и делается на уровне массовой литературной учёбы молодёжи, откуда уже разбегаются и создают свои тусовки «верлибристы», те, кто пишет без запятых, и прочие оригиналы.
Впрочем, уже появились молодые авторы, на голубом глазу заявляющие, что им нужен не союз профессионалов, а союз единомышленников, а уровень профессионализма, в принципе, не так уж и важен.
Единственный профессиональный опыт, который является неизменным основанием русской литературы и даёт серьёзную надежду на взаимопонимание – это нравственный опыт. И передаётся он не обучением чему-то конкретно-формальному, а в доверительных беседах-обсуждениях произведений и старшего, и молодого поколений. Свойство литературы таково, что вертикаль смысла выстраивается через все уровни текста – от звукописи до идеи, и каждый приём, оставаясь приёмом (от знаков препинания до способа организации сюжета), становится носителем смысла.
Но для таких профессиональных бесед-семинаров кроме безусловного профессионализма нужна очень высокая степень взаимного доверия. Есть ли она? Будет ли она? Остаётся только надеяться.
Задание на завтраЧто предстоит молодым – с нашей помощью или без неё? Во-первых, конечно, – быть. Реализовать себя по максимуму. Так или иначе социальные ниши, позволяющие серьёзно заниматься литературной работой, появляются, количество их увеличивается – неизвестно, надолго ли, но хочется наивно верить, что да.
Во-вторых, адаптировать опыт, национальную литературную традицию к новым условиям. Это вопрос не столько поиска форм, сколько осмысления «отцовского» противостояния культурной агрессии, разрушению, небытию. Есть поколения победителей, но есть и поколения, принимающие на себя первый удар. Чтобы «дети» состоялись как победители (а шанс у них, безусловно, есть), нужен «отцовский» опыт противостояния расчеловечиванию, со всеми его горькими ошибками, поражениями и – вопреки всему – опыт самостояния.
В-третьих, им предстоит подхватить уже практически оформившийся культурный запрос на новую литературную иерархию, которую тщетно пытались в последние годы выстроить «отцы». У них не получилось, потому что по большому счёту это уже задача «детей» – «детям» и выстраивать иерархию заново.
В-четвёртых, сберечь и укрепить Союз писателей как хорошо организованную, системно выстроенную силу, сознательно противостоящую хорошо организованной, системно выстроенной агрессии расчеловечивания. Время одиночек прошло – может быть, оно ещё и наступит когда-нибудь, но явно не скоро.
Двойки в дневникХотелось бы обозначить и типичные «детские» ошибки, которые теперь уже видны невооружённым глазом. Часть их запрограммирована «отцовским» опытом, часть изобретается авторами самолично.
К запрограммированным можно отнести извечную привычку больше «праздновать» обнаруженный и признанный талант, а не отрабатывать его по-честному. Проблемы со спиртным и прочими допингами в молодёжной среде, кажется, вечны. С одной стороны, понятно: творческое напряжение – это высокое напряжение, нужна и разрядка. С другой – на глазах запускаются разрушительные процессы, у многих – на всю жизнь, для некоторых – стремительно приводящие к гибели.
Практически запрограммировано подростковое по сути самоутверждение за счёт отрицания «отцовского» опыта – все это в той или иной мере проходили, но сегодня обстановка подогревается тотальной модой на самовыражение и обилием новых форм для него (при этом понятно, откуда и зачем они берутся и каково их содержание). Литературная работа сугубо индивидуальна, но результат её становится значимым только при наличии общего литературного пространства, живого процесса общения, выработки коллективных ориентиров.
Запрограммированы и различные формы эпатажа: путь к творческому признанию всегда довольно долог и рискован, а вот заявить о себе скандалом или наоборот, подыскать себе местечко в административной структуре и компенсировать творческую несостоятельность бурным административным восторгом – самое то. Что, собственно, мы нередко наблюдаем.
Но самую большую, жирную двойку хочется влепить в воображаемый дневник тем из «детей», кто наивно думает, что мы живём в благополучное время широких возможностей и можно позволить себе если не всё, то многое. Периоды относительного социального затишья – это именно те периоды, когда скрытно ослабляются, подтачиваются, подменяются основополагающие понятия, опоры, смыслы. А явным всё это становится только в кризисные моменты, в прямых атаках. Поэтому если мы хотим сохранить свою культуру, литературу – национальную жизнь, человеческое в человеке в конечном итоге – нельзя забывать, что главное происходит здесь и сейчас.
Короткая реплика в сторону «отцов»
Легко, конечно, не будет. Ни «детям», ни нам. Им, прекрасно самоуверенным, думается, что всё сбудется. Нам тоже когда-то так казалось. Сбылось – но по-другому. Большими усилиями. С огромными утратами. Бесценный опыт нескольких писательских поколений, переживших социальную катастрофу и культурную вакханалию, сохранивших традицию и сохранивших Союз писателей России, нужно передавать поколению, которое должно стать поколением победителей. Они ничего не должны нам – это мы должны им, чтобы
© 2024 «Проводники культуры»